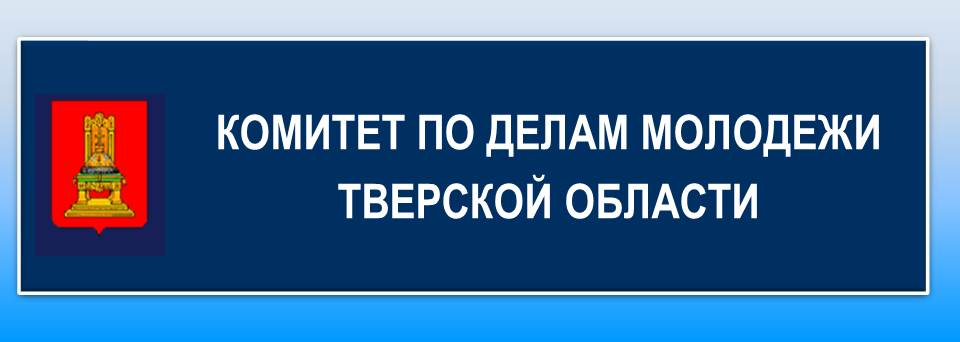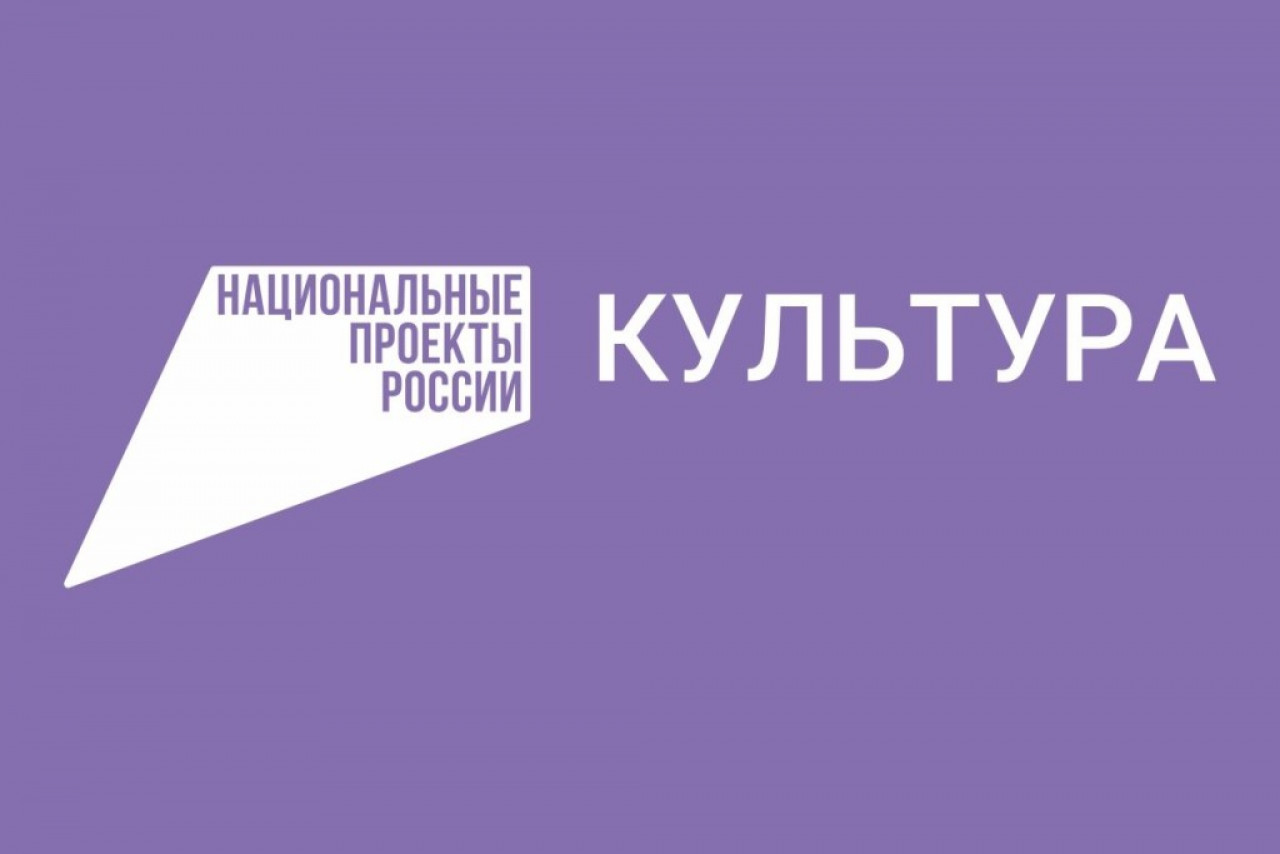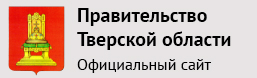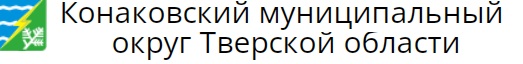Хролова Ирина Олеговна (09.02.1956 – 08.04.2003) родилась 9 февраля 1956 года в г. Мариуполе. Детские и юные годы прошли в п. Редкино. Окончила Редкинскую среднюю школу № 1. Со слов матери, Улякиной Лидии Николаевны, талант её проявился ещё в школе, «…Ирина жила только литературой и это был её реальный мир». И, конечно, любимой учительницей была Тамара Леонидовна Щёголева, которая преподавала в школе русский язык и литературу. «Не появись ВЫ, мой литературные способности не получили бы должного развития. Я очень вам благодарна» - писала Ирина Т.Л. Щеголевой. Т.Л. Щёголева бережно хранила всё, что Ирина ей присылала. «Как–то Ирина прислала мне вот это: «по причине болезни я не смогу писать сочинение. Тем я не знаю, а писать хочется. Так что это небольшое стихотворение примите взамен сочинения. Пишу искренне, от души (на меня нахлынуло вдохновенье)… Если Вам интересно узнать, то затратила я на него 25 минут. Я не хвалюсь: этот факт свидетельствует о силе вдохновенья».
Исповедь Раскольникова
Соня, Соня, Сонечка, что со мной теперь?
Я убийца Сонечка, Сонечка, поверь!
Кто я: тварь, дрожащая иль Наполеон?
Соня! Зрю упрёки я, зрю со всех сторон!
Центром мироздания не быть мне никогда,
А вокруг страданья, а вокруг беда.
Что мне до несчастья? Что мне до людей?
Я убийца, Сонечка! Раб своих страстей!
Пусть моя теория потерпела крах.
Человек же, Сонечка, не повержен в прах.
Пусть теперь мне совестно на людей смотреть,
Всё же жизнь, жизнь, Сонечка победила смерть.
Соня, «кровь по совести» я не перенёс.
Лить не надо, милая, надо мною слёз.
Ты сама несчастная, белый свет кляня,
Жизнь свою ужасную… Пожалей меня!
Как же отказаться мне от своей мечты?
Я несчастный, Сонечка. Несчастнее чем ты.
Ты по принуждению тело продаешь,
Продаёшь не дорого: за какой – то грош.
Но и те несчастные, жалкие гроши
Для тебя, случается, ох, как хороши!...
У меня родные есть, даже есть друзья…
Смерть – твоё спасение. Умереть нельзя.
Понимаешь, Сонечка, цель моей мечты:
Сделать вас счастливыми (вот таких, как ты).
Цель блага. Но избраны грязные пути…
Будь со мною, Сонечка, ну не уходи!
Обласкай несчастного, отведи беду
Может быть, покой душе, Соня, обрету.
Жизнь тебя калечила, покрутила всласть,
Но тебя, пречистую, не коснулась грязь.
Ненавижу, милая, остальных людей.
Лишь с тобою в мыслях я становлюсь светлей.
Робкая, забитая, как же любишь ты!
Дева непорочная чистой красоты.
Предо мною, Сонечка, душу обнажи,
Кто тебя несчастную сделал, ну скажи?
Кто же и меня столкнул на этот скользкий путь?
Ну, скажи мне, Сонечка, скажи хоть что- нибудь.
Ты не знаешь милая. Ты не учена,
В том, что ты несчастная, не твоя вина,
Деньги, слава, Сонечка, портят шар земной.
Я убийца, Сонечка! Соня, что со мной»!
Её путь в большую литературу начался с газеты «Заря». Очень тепло принял творчество начинающей поэтессы редактор газеты Б.П. Осипов:
«Ты была моею ученицей,
Много от тебя я получил».
Эти строки он включил в свой сборник. Следующие этапы пути в литературу состоялись в г. Калинине. После окончания школы поступила в культпросветучилище, затем работала машинисткой в редакции «Калининской правды», писала стихи. В Калинине её поэзию знали многие. Мотузка М.В.: « Для меня в Твери до неё было только два Поэта: это Галина Безрукова и Марина Аввакумова. Ирина Хролова всегда создавала впечатление вечного порыва, то есть она не входила в какие- то рамки, совершенно не вмещалась в них. Она необыкновенно талантливый человек, потрясающей работоспособности. Она была открытой. Незлопамятной, не зацикливалась на житейских обстоятельствах…».
Стихи Хроловой печатались в областных газетах, альманахах, сборниках. На страницах журнала «Работница» её представлял Вл. Савельев: «В стихах молодой, начинающей поэтессы за внешней простотой угадывается большое чувство и своё видение мира».
В 23 года Ирина - студентка Литературного института им. М. Горького. Её творчество ценили Б. Ахмадулина, Р. Казакова, А. Дементьев. Белла Ахмадулина на одном из семинаров с молодыми поэтами сказала, что Ирина самая талантливая из присутствующих.
В жизни Ирины было много трагического. Родного отца у неё не было. Её исполнился 1 год, когда он добровольно ушёл из жизни. А когда ёй было -10, погибает брат Дима, которому она посвятила стихотворение «Брату Диме».
Редактор заводской газеты «Химик» Е.Г. Репкина вспоминает: «Когда Ирина приезжала в Редкино, то обязательно заходила к своей учительнице литературы – Тамаре Леонидовне Щёголевой. Она писала ей письма, рассказывала о жизни. В последнее время стихов писала мало. Книга - «Если можно – воскресни» единственная. Ей было 47 лет. В конце жизни стала заниматься благотворительностью. Говорила, что её тянет делать добро».
Последние стихи ужасали своей безысходностью. Она постоянно чувствовала, что её жизнь вот- вот оборвётся. Это предчувствие сбылось. Ирина Олеговна умерла весной во сне. Случилось это 8 апреля 2003 года.
Много стихов перед смертью она уничтожила. После кончины вышел сборник «Я жива», благодаря стараниям редкинцев: И.А. Лапковской, Э.В. Эрдмана и друзей из г. Москвы. Кроме, того в бумагах были найдены стихи для детей. Их перепечатала Лапковская И.А., проверила Щёголева Т.Л., облекла в форму и проиллюстрировала Зазулина Н.Ф., учительница по ИЗО, которая тоже учила Хролову. Первый раз сборник вышел под названием «Чепушок» в 2004 году, второй раз при участии Курбатова О.Г. под названием «Чепушок и его друзья» в 2011 г.
За десять лет до кончины Хролову И. О. приняли в члены Союза писателей России.
Материал предоставлен работниками МУ «Редкинская ПЦБС», 2013 год
Список используемой литературы:
Хролова И. Если можно – воскресни: книга стихов.- М.: РИФ «РОЙ», 1996.- 48 с.
Хролова И. Чепушок: стихи для детей.- Редкино: Самиздат, 2004.-22 с. ил.
Хролова И.О. Чепушок и его друзья: стихи для детей.- Тверь: ООО «Принт», 2011. -48 с., ил.
Савельев В. Голоса молодых // Работница.- 1979.- №(вырезка)
Осипов Б. «Потому что у ночи глаза не дремлют, и они беспощадны ко мне отныне» // Заря.- 2003.- 6 июня. - С.7
Феоктистова Г. А в Редкине случился редкий день… // Вече Твери.- 2003.- 25 сент.- С.7
Эрдман Э. Ирина Хролова: жизнь продолжается в стихах // Заря.- 2003.- 31 окт.- С.7
Использовались материалы стенда Редкинского поселкового музея
Широкому читателю имя Ирины Олеговны Хроловой (1956–2003) пока еще мало известно, хотя тот, кто внимательно следит за литературным процессом трех последних десятилетий, возможно, вспомнит ее публикации в журналах «Юность» и «Постскриптум», альманахах «Тверской бульвар» и «Теплый стан», в антологии «Русская поэзия ХХ века» (Олма-пресс, 1999). Кому-то, наверное, попадались и книги ее стихов «Если можешь – воскресни» (М., РИФ «Рой», 1996) и «Я – жива» (М., Э.Ра, 2004, посмертное собрание).
Хролова совсем не стремилась делать поэтическую карьеру, даже во времена, когда стихи были намного востребованней, чем сегодня. Она, насколько я помню, всегда, и особенно в последние годы, чуждалась всяких тусовок , не посещала литературных вечеров, не была, что называется, на виду. Доходило даже до того, что Ирина забывала придти на свое собственное, уже назначенное выступление, подводя организаторов и оставляя в недоумении собравшуюся публику. Она твердо знала, что поэт – это тот, кто пишет стихи, а не тот, кто становится «притчей на устах у всех». Нынешние шоу-вумен от поэзии вызывали у нее содрогания.
Мы познакомились с ней тридцать лет назад в общежитии Литинститута. Ира часто проводила время за пишущей машинкой. Она была старше меня на два курса и на пять лет, и обаяние ее личности сильно действовало на меня в ту пору. Хролова мало чем походила на типичную литинститутскую поэтессу. Ее суждения о людях, о жизни, о литературе поражали беспощадной точностью и бескомпромиссностью. Это было время, когда она начала писать свои лучшие стихи, в том числе и посвященный Мандельштаму цикл «Зеркало». Этот цикл или «поэма в осколках», как потом назвала его Ирина, распространялся по общежитию наравне с самиздатом, без имени автора, дабы не искушать еще не утративших ретивость комсомольских активистов. Один восторженный, но неосведомленный однокурсник в разговоре со мной приписал «Зеркало» Арсению Тарковскому.
Читателю, ожидающему от поэзии каких-либо сногсшибательных новаций, я бы не посоветовал читать ее стихи. Подлинная поэзия всегда преемственна. И формально, и содержательно Хролова поэт вполне традиционный. Ее учителями могут быть названы ныне всеми «заезженные» Ахматова и Цветаева (ранняя). Более искушенный читатель непременно отметит влияние Георгия Иванова, которому посвящено, кстати, одно из ее стихотворений. От Иванова – лапидарность, фрагментарность ее стихотворений, их обыденная интонация, способность четко называть вещи своими именами. Но сквозь всевозможные влияния чудесным образом прорывается собственный неповторимый голос Ирины Хроловой. И подобная оригинальность, как у большинства классических поэтов, есть не столько опознаваемый ряд особенных стилистических приемов, эта оригинальность ощущается скорее как душа того или иного стихотворения, цикла, книги, творчества в целом…
С Георгием Ивановым ее роднит еще и присущий им обоим трезвый, лишенный иллюзий взгляд на действительность. Основная тема зрелых стихов Ирины лучше всего формулируется ею самой:
Как мы все одиноки – вдвоем ли, втроем,
Если даже смеемся и песни поем,
Если искренне любим друг друга,
Как мы все одиноки и как мы нежны,
Как мы все никому никогда не нужны –
До гнетущего сердце испуга…
Многие из ее поздних стихотворений ужасают своей безысходностью. И все же в них порой вспыхивает вера в то, что не «все бессмысленно и бесполезно», и тогда Ирина пытается «славить Свет», говоря о своей жажде жизни. В то же время она полна постоянных предчувствий, что ее жизнь вскоре оборвется:
По какой-либо там вероятной весне
У меня остановится сердце во сне…
Это предсказание, как случается только с настоящими поэтами, сбылось с буквальной точностью. Ирина Хролова умерла во сне, утром 8 апреля 2003 года, сорока семи лет от роду.
***
Умереть мне во Пскове,
Подле речки Псковы,
У старухи Прасковьи,
У крестьянской вдовы.
А в делах этих опыт
Вековой у нее:
Она баньку истопит,
Поменяет белье.
В чистой белой рубахе
Лягу на пуховик
И забуду все страхи,
Всех чужих и своих.
Только – старые руки,
Их надежная власть...
«Ты же, девка, со скуки
Помирать собралась. –
И сурово добавит:
Коли так, – помирай .
Пусть тебя позабавит –
Что там? – ад или рай.
Ох и скучно же бабам
В одиноком дому.
Я сама померла бы, –
Хоронить-то кому...»
***
М не был февраль.
Прикрыв тугие веки,
Я слушала воронью перебранку
В больничном парке.
Строгий белый холод
С клонялся надо мной, скрипя пространством,
Безжизненно в плечо меня кусал
И вслушивался:
Я еще дышу ли?
И утверждал, что я сошла с ума.
Так шла моя тридцатая зима.
И я могла весны бы не увидеть,
Но, вопреки уколам и прогнозам,
Я говорила:
Я умру во Пскове,
Как я себе когда-то предсказала.
Но прежде – я должна туда попасть.
Я, может быть, вовек не попаду
В о Псков, а значит, смерти не увижу…
***
В окне палаты – тень куста.
И бабка, с детскою тоскою,
Не в силах наложить креста
К игле прикованной рукою,
На грудь, изрезанную вдоль
И поперек… Она не плачет:
– Ну, что же, Бог не уберег –
Пора и собираться, значит.
Мне тридцать лет. Февраль в снегу.
И я сейчас в безумье рухну,
Коль на секунду не смогу
Поднять дряхлеющую руку,
Сорвать с клейменой простыни
Ее истерзанную мякоть!..
Не плакать, Господи, не плакать …
О , только руку протяни!
* * *
…и тогда меня оставил Бог.
И душа металась надо мною,
Ударялась в голый потолок,
Забивалась в угол меж стеною
И окном: хрипела у стола
С затемненной лампою больничной,
Где седая женщина была
Белой, равнодушной и привычной.
И тогда, срываясь в дикий вой,
Над своею болью издеваясь,
Билась я тяжелой головой
В твердый валик серого дивана, –
Женщина прибавила огня,
Подошла и усмехнулась молча…
И душа опять вошла в меня,
На нее оскалившись по-волчьи.
***
друзьям
Я так хотела вас не видеть,
Когда беспомощной лежала.
Вы не могли меня обидеть.
Но что-то, что-то обижало.
Теперь и помнить бесполезно.
Но все теперь мне стало ясно:
Незримая стена болезни.
Незримая стена боязни.
У вас в глазах такое было
Смешенье страха, боли, света,
Что я прощала вас, любила
И ненавидела за это.
***
Ноет шарманка, слезу вышибая,
В солнечной летней аллее…
Я неживая уже, неживая,
Что же меня ты жалеешь …
Только на юге такое бывает –
Зелень в сияющих пятнах…
Я неживая уже, неживая,
Разве тебе непонятно…
Солнце, кипящую зелень сжигая,
Мелко дробиться о крыши…
Я неживая уже, неживая,
Даже тебя я не слышу.
Тихо живу. Ничего не желаю.
Зелень увядшую глажу.
Тихая… словно вообще неживая.
Словно не жившая даже.
Музе
Я тебя отдаю не за сладкий кусок
На квадратном семейном столе,
А за тоненький тот голубой волосок,
Удержавший меня на земле.
И нелепую грубую правду твою,
И ночную безумную речь
Я не знаю, кому и зачем отдаю,
Чтобы тело свое уберечь.
Что же, тихая жизнь – не великий порок,
Не больные шальные слова...
Видишь, я назубок затвердила урок
«Я жива, я жива...».
Я жива?
***
Как мы все одиноки – вдвоем ли, втроем,
Если даже смеемся и песни поем,
Если искренне любим друг друга,
Как мы все одиноки и как мы нежны,
Как мы все никому никогда не нужны –
До гнетущего сердце испуга.
Если истине этой в глаза посмотреть,
Нам останется выход единственный – в смерть.
Но и смерти унять не под силу
Всю гордыню бессмертной и жалкой души,
Потому что – любые слова хороши,
Ведь она – никаких не просила.
***
Над пустой суетою вокзальной,
Над бессонной тоской до утра
Бьются долгие, словно сказанья,
Ослепительные прожектора.
И, отчаянна и нерушима,
Над прожектором слепнет звезда…
Для чего вызревает крушина
И летят под откос поезда?!
И прожекторный желтый потрогав
Луч,
внезапно и горько пойму:
Этот луч провожает в дорогу,
Чтобы встретить у входа во тьму.
***
Как я страшусь и сборища людского,
И злого одиночества ночей,
Когда как будто слышишь палачей
Времен далеких острые подковы,
Как будто алый отблеск их рубах
Ложится на окно мое ночное…
И некому кричать, как страшен страх,
Как нужно мне присутствие живое!
Чтоб кто-нибудь ходил, дышал, курил,
Чтоб книгу пробегал бессонным взглядом,
Чтоб кто-нибудь дышал со мною рядом! –
И ни о чем со мной не говорил.
***
…и женщина, сжимающая рот…
Еще не плача, но уже готовясь
К тому, что набухает и растет
Бессилие, болящее, как совесть…
Когда б она во всем была права,
Ей было бы не проще, но спокойней.
Но все это – слова, слова, слова…
И женщина, сжимая рот ладонью,
…отчаянье глуша,
Следит, как между пальцев, плотно сжатых,
Медлительно скользит ее душа.
В небытие. Одна. Без провожатых.
***
У прощания – волчий оскал.
Так всегда при разлуке бывает,
Даже если потом забывают.
Только ты – не такого искал.
Будет женщина рвать и метать.
Будет нервы и душу мотать.
Потому что терять не умеет,
Даже если совсем не имеет.
Даже та, что сумеет простить
И на волю тебя отпустить,
Будет выть по ночам, потому
Что уже не нужна никому.
Только ты не такого искал.
От любви не хотел ничего.
Потому-то и волчий оскал
У святого добра твоего.
***
Уже устало сердце маяться .
И прежней страсти – нет возврата.
Зачем она приходит каяться?
Она ни в чем не виновата.
Мне жаль ее. Она – сестра моя.
И будет мне сестрой земною.
О, с ней случится то же самое!
Но пострашнее , чем со мною.
Но для чего мне так печалиться,
Ее тоскою изнывая:
Ведь там, где души повстречаются,
Она пройдет, не узнавая…
***
Ты знаешь, даже плакать не хочу.
Ты знаешь, даже помнить бесполезно.
И только что-то тихое шепчу
И нежное…
Так в месяцы болезни,
У маетной постели хлопоча,
Не ждут неторопливого врача,
Не плачут, обреченные разлуке.
Но подают лекарство и питье.
И тихое больное забытье
Предпочитают ясности и муке.
***
Всё бессмысленно и бесполезно.
Даже имя не в силах назвать…
Я на миг задержалась над бездной –
И отпрянула в страхе назад.
Никого, никого, кто мне дорог,
Никого не оставлю в душе,
Потому что единственный ворог –
Разум мой – истерзался уже.
И не справиться мне с этим зверем,
Потому что и каждый из нас
Никому никогда не поверит
Даже в самый доверчивый час.
Мы живем, никого не жалея,
Забывая свои имена,
Потому что комета Галея
Неизбежна во все времена.
***
Думать незачем. Не все равно ли,
Отчего погибать нам придется –
По чужой ли, по собственной воле.
Всё равно эта нитка прядется.
Нитка к нитке – и выйдет веревка.
Но, прощаясь с привычным, вчерашним,
Вдруг подумаешь: очень неловко
Быть распухшим, и синим, и страшным.
А подумаешь – плюнешь и выпьешь.
А когда на душе посвежеет –
Дробь нелепую пальцами выбьешь
По столу. И распустишь на шее
Воротник заскорузлой рубашки.
И последнее радио включишь.
И такие известья получишь,
Что и жить уже больше – не страшно.
***
Мне как-то позвонил случайно Толик.
Болтал о том о сем и, между прочим,
Вдруг прочитал одно стихотворенье
Чухонцева.
И там была строка,
Потрясшая меня не новизною,
Не смелостью, а строгим точным смыслом
В сего, что происходит на земле.
«...а кровь – все кровь, и требует расплаты...»
Вот как это сказал Олег Чухонцев.
А прежде я читала у японцев,
Не помню у кого, – там говорилось:
Убитый должен сам убить убийцу,
Чтоб не было убийства на земле.
Как просто все решилось! Если платы
Кровь требует – убитый убивает
Убийцу; сам становится убийцей
И снова погибает от руки,
Его сразившей первою...
А мы?
А мы, как говорится, ни при чем.
Какое счастье! Пусть их платят сами,
Ведь дети за отцов не отвечают,
И нас освободили от долгов.
...Когда бы грек увидел наши игры...
***
Надо же хоть изредка понимать:
Никому не хочется помирать .
Смерть – она не каждому по плечу…
Ох, с какою жаждою жить хочу!
Пусть во всем виновна я – все равно.
Сладкое церковное пью вино,
Стоя у заутрени… Свет в окне…
Что там голос внутренний шепчет мне?
Льётся Богородице свет в глаза.
Надо мною носится стрекоза.
Крылышки прозрачные всё ясней.
Господи! Что значу я рядом с ней…
Рядом тихо молятся … Не спеши,
Если слово молвится из души.
Всякому дыханию – много лет!
Этими стихами я славлю Свет!
Строкой продлив земную жизнь. В одном из своих стихотворений она написала: «Умереть мне во Пскове…», выразив в этой строке восторг от увиденной там древней красоты. Но если понимать это дословно, то в таком пророчестве себе же она немного ошиблась, поскольку 8 апреля прошлого года ушла из жизни, не в Пскове, а в Москве. Причем, через 10 дней после того, как стала членом Союза писателей. Это - Ирина Хролова.
Ее имя я впервые увидел на страницах районной газеты «Заря» в 1970 году, когда стал жителем конаковского поселка Редкино. Увидев, сразу же подписался на эту газету. Только ради нее. Вернее, ради ее стихов, в которые нельзя было не влюбиться. Как и в саму Ирочку. Да-да, именно так, потому что в 70-м этому чуду, родившемуся и выросшему в скромном Редкине, было всего 14. Крохотный росточек, почти детская нескладность - это еще девочка. Взгляд откуда-то из глубины, тихий ровный голос, порою огромная мысль, удивительным образом вместившаяся в короткую фразу, - это взрослый человек и уже зрелый Поэт. «Вундеркинд», - скажет кто-то? Может быть… Но у меня есть иное определение такому явлению: «Ирина Хролова», потому что вундеркиндов много, а она - одна.
Потом в ее жизни было культпросветучилище, работа в Твери - то библиотекарем, то машинисткой, после чего был литературный институт и Москва, где утром 8 апреля 2003 года она не проснулась. А в моей жизни все эти годы были ее стихи и редкие сведения о ней. Слухами долетали до Редкино вести о том, в столице «нашу Хролову», как говорится, заметили Белла Ахмадуллина, Римма Казакова, Валентин Сидоров, Андрей Дементьев, что она печатается даже в солиднейшей антологии «Московская муза», а в 1996 году у нее вышел первый сборник «Если можешь - воскресни». Потом - пауза, после которой и прозвучала вдруг тяжелая весть. И следом - фактическое начало возвращения имени Ирины Хроловой на родную землю. Благое дело сотворил редактор конаковской районной газеты «Заря» Борис Осипов, посвятив Ирине Олеговне целую страницу. Теплым и добрым получился вечер ее памяти в редкинском Доме культуры, состоявшийся в сентябре прошлого года. Следом большой вечер прошел в одной из московских библиотек. В нынешнем январе переполненным был зал конаковской ЦРБ, хотя в тот же день стихи Ирины Хлоровой и строки, посвященные ей, звучали и еще в одном из залов города. Были на них мама поэтессы, ее муж, редкинские учителя, друзья и коллеги из Твери и Москвы. Не было только самой Ирины Олеговны, хотя…
Я держу в руках только что вышедший в свет второй сборник ее стихов, выпущенный московскими издателями Анатолием Богатых и Эвелиной Ракитской, вижу такое знакомое лицо на его обложке и ощущаю, насколько название «Я жива» соответствует действительности. И эта действительность - в стихах, большинство которых наполнено вовсе не светом. Но они сравнимы с мраком предрассветным, когда луч солнца еще невидим, но уже чувствуется, а сам человек живет ожиданием утра. По-моему, Ирина ждала этого все 47 лет своей жизни. Всего 47… И как тут не задаться вопросом: «Почему так мало?». А, может, ответ в ее же строке: «Я так страшусь и сборища людского, и злого одиночества ночей»?... Год назад для нее наступила бесконечная ночь, но именно от нас сегодня зависит, будет ли она наполнена тем самым одиночеством или ее осветит наша добрая память и наше пусть даже и запоздалое спасибо. И в этой связи - некоторое недоумение тех, кто все отчетливее именует себя хлороведами: почему оказались прерванными связи Ирины с любителями поэзии в Редкино, Конакове, Твери, но при этом среди московской поэтической богемы она быстро стала своей? По-моему, ответ в том, что ее поэзия - для избранных, а также в известном: «Что имеем - не жалеем…».
Сегодня автор этих строк при понимании и поддержке сотрудниц областной библиотеки им. А. Горького готовит презентацию в Твери книги Ирины Хроловой «Я жива» и большой вечер ее памяти. Думается и это должно стать своеобразным возвращением маленькой, но такой большой женщины на родную землю, где ее встретят не просто земляки, а те самые избранные, для кого высокая Поэзия священна.
Тверская Жизнь, Эдуард ЭРДМАН, п. Редкино
Ирина Хролова. Я жива. Перед нами книга избранных стихотворений недавно ушедшей из жизни Ирины Хроловой. Широкому читателю это имя пока еще мало известно, хотя тот, кто внимательно следит за литературным процессом двух последних десятилетий, возможно, вспомнит ее публикации в журналах «Юность» и «Постскриптум», альманахах «Тверской бульвар» и «Теплый стан», в антологии «Русская поэзия ХХ века» (Олма-пресс, 1999). Кому-то, наверное, попадалась и тоненькая книжечка ее стихов «Если можешь – воскресни» (Москва, РИФ «Рой», 1996, редактор Анатолий Поляков). Хролова совсем не стремилась делать поэтическую карьеру, даже во времена, когда стихи были намного востребованней, чем сегодня. Она, насколько я помню, всегда, и особенно в последние годы, чуждалась всяких «тусовок», не посещала литературных вечеров, не была, что называется, на виду. Доходило даже до того, что Ира забывала придти на свое собственное, уже назначенное выступление, подводя организаторов и оставляя в недоумении собравшуюся публику. Она твердо знала, что поэт – это тот, кто пишет стихи, а не тот, кто становится «притчей на устах у всех». А нынешние шоу-вумен от поэзии вызывали у нее содрогания.
Мы познакомились с ней двадцать лет назад в общежитии Литинститута. Наша дружба началась с моих посещений комнаты поэта Юрия Юрченко, где Ира часто проводила время за пишущей машинкой. Там ей хорошо работалось, несмотря на то, что комната напоминала постоялый двор, где множество народа дневало, ночевало и читало вслух стихи и прозу под меланхолично-благодушным взором хозяина, прогонявшего гостей лишь когда к нему наведывалась очередная возлюбленная. Ира была старше меня на два курса и на пять лет; обаяние ее личности сильно действовало на меня в ту пору. Хролова мало чем походила на типичную литинститутскую поэтессу. Ее суждения о людях, о жизни, о литературе поражали беспощадной точностью и бескомпромиссностью. Это было время, когда она начала писать свои лучшие стихи, в том числе и цикл «Зеркало». Этот цикл или «поэма в осколках», как потом назвала его Ирина, распространялся по общежитию наравне с самиздатом, без имени автора, дабы не искушать еще не утративших ретивость комсомольских активистов. Один неосведомленный стихолюб-однокурсник в разговоре со мной приписал «Зеркало» Арсению Тарковскому.
Читателю, ожидающему от поэзии каких-либо сногсшибательных новаций, я бы не посоветовал открывать эту книгу. Подлинная поэзия всегда преемственна. И формально, и содержательно Хролова поэт вполне традиционный. Ее учителями могут быть названы ныне всеми «заезженные» Ахматова и Цветаева (ранняя). Более искушенный читатель непременно отметит влияние Георгия Иванова, которому посвящено, кстати, одно из ее стихотворений («Измеряется вечность не мерою смерти…»). От Иванова – лапидарность, фрагментарность ее стихотворений, их обыденная, приземленная интонация, способность четко называть вещи своими именами. Но сквозь всевозможные влияния чудесным образом прорывается собственный неповторимый голос Ирины Хроловой. И подобная оригинальность, как у большинства классических поэтов, есть не столько опознаваемый ряд особенных стилистических приемов, эта оригинальность ощущается скорее как душа того или иного стихотворения, цикла, книги, творчества в целом… С Георгием Ивановым ее роднит еще и присущий им обоим трезвый, лишенный иллюзий взгляд на действительность. Основная тема зрелых стихов Ирины лучше всего формируется ею самой:
Как мы все одиноки – вдвоем ли, втроем,
Если даже смеемся и песни поем,
Если искренне любим друг друга,
Как мы все одиноки и как мы нежны,
Как мы все никому никогда не нужны –
До гнетущего сердце испуга…
Многие из ее поздних стихотворений ужасают своей безысходностью. И все же, в них порой вспыхивает вера в то, что не «все бессмысленно и бесполезно», и тогда Ирина пытается «славить Свет», говоря о своей жажде жизни. В то же время она полна постоянных предчувствий, что ее жизнь вскоре оборвется:
По какой-либо там вероятной весне
У меня остановится сердце во сне…
Это предсказание, как случается только с настоящими поэтами, сбылось с буквальной точностью. Ирина Хролова умерла во сне, утром 8 апреля 2003 года, сорока семи лет от роду.
Зеркало
поэма в осколках
1
"Держи меня, соломинка, держи…
Покуда сам держаться я умею,
Нет умысла в твоей холодной лжи,
Соломинка, судьба моя, камея".
Но пять минут – такой огромный срок:
Вся жизнь пройдет… И кончится на вскрике.
А после кто-то вычитает в книге
Судьбу твою как маленький урок,
Но все не впрок…
Судьбу свою держа
В дрожащих обжигающих ладонях,
И он пойдет по острию ножа…
И жизнь пройдет. В побегах и погонях.
2
Мандельштам
(давясь ячменной кашей
Так, что резко дергалась скула)
Был поэт России… Но не нашей –
Той, венецианского стекла.
…отражаясь детской головою
В зеркале
(а там сгущалась мгла,
И жена его – уже вдовою –
Черным покрывала зеркала.
Наглухо завешивала, низко,
Чтоб не пропахала, как сохой,
Амальгаму – жестяная миска
С кашею ячменною сухой)…
3
Ночь за ночью,
День за днем
Ход часов тобою скомкан.
Ты зачем сидишь с огнем,
Если целый мир в потемках?
Ты зачем с огнем сидишь,
Точно бабочка, притянут?
Ты, ей-богу, угодишь
В лапы к инопланетянам.
Вот возникнут за окном,
Скажут, рта не раскрывая,
Скажут: "Не шути с огнем,
Эта шутка – роковая".
4
За непрочной оградою мира
По весне расцветают ромашки.
И звенят золотые романсы
Под шальную кифару сатира.
За оградой непрочного мира
Все идет, как всегда, как должно быть.
Опираясь о пухленький локоть,
Нимфа слушает пенье сатира.
И козлиный его, хриповатый,
Чуть хмельной голосишко заики
Вязнет в грудах сияющей ваты,
Что прицеплена к небу за нитки.
5
…и тебя отраженье твое оболжет,
Осмеет, одурачит…
Что он значит- в руке твоей детский флажок?
Ничего он не значит.
Что он значит – ожог на морщинистом лбу
Дурака и провидца?
Это некий божок окликает судьбу:
"Эй, подвинься!
Эй, подвинься –
иначе и ты из гнезда
Выпадешь…
Так же выпали, дескать,
И бескрылый птенец, и малютка звезда:
С плачем детским.
…как над ними родители бились в ночи –
Помнишь, помнишь –
И ломали свои голоса и лучи,
Призывая на помощь…"
Это некий божок на чудном языке
Нам с тобой угрожает…
И осколок, зеркально дрожащий в руке,
Только детский флажок отражает.
6
Надсадный гул колес,
Как будто ось погнули.
Но "вывезем, авось" –
Поет в надсадном гуле.
Авось, куда-нибудь,
Куда тебе угодно.
Куда проложен путь
И въезд еще свободный.
Пусть жизнь – как в горле кость,
Царапает, тревожа, –
На вечное "авось" –
Последняя надежа.
С "авось" на языке,
С авоською в руке,
С той сумкою дырявой,
Такой, что не теряет
Того, чего в ней нет…
Так и объездишь свет.
7
Ночь хмельна и коварна, как брага.
В двух шагах не увидеть лица.
Только брат, ненавидящий брата,
Ненавидит его до конца.
И сильнее любви и свободы
Эта страсть, прораставшая годы
В неприкаянном сердце его,
Обретает свое естество.
Проросла, настоялась, как брага.
Пена легкая снега белей…
Пей же, брат, ненавидящий брата!
Только слезы с похмелья не лей.
8
Мандельштам заводит флирт с Тифлисом.
Пьет вино в продымленном духане.
Улочкам изломанным дивится.
Говорит высокими стихами.
И ему до лампочки отныне
Петроград, голодный и тифозный.
И не нужно думать о камине,
Потому что греют даже звезды.
Тиф… Тифлис… Невы кровоточенье
Под холодным острием рассвета…
Ох, какое, все-таки, мученье:
Заставлять себя не помнить это,
Пить вино и флиртовать с Тифлисом,
И, стихами говоря с веками,
Сердце, разделенное дефисом,
Сдерживать дрожащими руками.
9
Ночь уходит на убыль
Мерно, словно волна…
На единственный рубль
Выпей кружку вина…
Блеклый фантик конфеты, –
Как закуска скудна…
Что болеть голове-то:
И бедна, и одна…
Зимний сумрак скрипучий
Нагоняет тоску…
Пугачевский тулупчик
Не пугает Москву:
С давних пор насмотрелась,
Поняла, унялась –
Пугачевскую смелость
Сломит царская власть.
Сломит походя, просто,
Не считая за труд…
И тулупчик по росту
Для тебя подберут.
10
Первый подслушивал не дыша.
Первый не верил своим ушам.
Второй подсматривал и сказал,
Что он не верит своим глазам.
А третий, что рядом с тобою был,
Молчал, как будто про все забыл.
И вот что стало с ними потом:
Все трое предстали перед судом.
И первый воскликнул: я слышал сам!
И второй: я верю своим глазам.
А третий, что рядом с тобою был,
Молчал, как будто про все забыл.
И первый жил без греха на душе.
И жил второй без греха на душе.
А третий, тот, что всегда молчал,
Зубами тихо скрипел по ночам,
Себя ненавидя…
И видит Бог,
Большего третий сделать не мог.
11
На столе – золотой портсигар.
В скромном кресле – хозяин его…
А тебе из окошка сигать,
Из тюремного – каково?
И, могучим румянцем пыша,
Только что от станка и земли,
Сторожат тебя два крепыша:
Встретишь в городе – в доску свои!
Встретишь в городе – скажут: браток!
Скажут: друг, угости закурить…
Так сумеешь ли их укорить
В том, что в рот забивают платок,
В том, что, хрупкие ребра круша,
Все хотят по тебе угадать,
В чем жива у поэта душа,
Чтоб, как сивку, ее укатать.
12
…и прощения нет небесам,
Разучившимся быть с человеком,
Узнавать его боль по глазам,
По слезе, закипевшей под веком,
По недоброй морщинке на лбу,
По недоброму тихому смеху…
Мы идем на свиданье со смертью,
За собой оставляя судьбу.
Право выбора нам не дано.
И, стараясь судьбы не касаться,
Прямо в небо выходит окно,
Растворяя его без осадка.
13
Как плоты сплавляют вниз по Каме:
С руганью да криками сердитыми,
Так тебя сплавляли: с кулаками
Вместе да с отпертыми бандитами.
Посмотри, как бреется на палубе
Твой охранник, мальчик, только призванный,
Как лицо его сияет алое,
Губы искривляются капризные,
Как сияет зеркальце карманное –
Ярче золоченого кольца! –
Отразив черты его нормального
Милого безусого лица…
14
Я живу в оловянной тюрьме.
С оловянною ложкой и миской.
По ночам надо мной в полутьме
Потолок опускается низко.
Слово – олово. Пуля – свинец.
Слово – олово. Хлебец – полова…
Отпустите меня, наконец,
Отпустите под честное слово!
Но упрямый и стойкий на вид,
Весь надменный, клювастый, как кочет,
Оловянный солдатик стоит
На часах – и гримасы мне корчит:
Слово – олово, мол, не вода…
Никуда не уйдешь, никуда.
15
Задрожали: в зеркале воды –
Лепестки оборванной звезды.
В сумеречной горенке избы –
Лепестки оборванной судьбы.
А в руке, прозрачной и худой, –
Лепестки ромашки молодой.
16
Пароходик по воде
Шлеп да шлеп – колесами.
– Где ты, милый?
– Я нигде.
Не тревожь расспросами.
В небе месяц голубой,
Ни звезды – как сдунуло.
– Что ты, милый, что с тобой?
– Ничего.
Я думаю.
Я бы тоже мог – звездой –
В сумеречный свет густой
Ускользнуть за облако,
Не пугаясь оклика…
17
…и сны, румяные, как яблоки в снегу,
И легкие, как маленькие дети,
Прозрачной стайкою бегут через столетья
И замирают на бегу,
И яркими улыбками блестя,
Вдруг рассыпаются во времени и боли
И снятся – матери, рожающей дитя,
Дитяти в чреве и солдату перед боем.
Но тот тяжелый, беспробудный сон,
Похмельный, полный сумрачных видений…
О если бы, пока не доглядели,
О если бы сумел прерваться он!
18
…и ворон, сидя на дубу,
Прочь гонит воющую осень,
И к клюву медному трубу
Иерихонскую подносит,
И так уверенно на ней
Выводит скверные рулады
О серой скуке зимних дней,
Грозящей братии крылатой,
И так труба ему впилась
В клюв,
Так ревет ее утроба,
Что осень ищет, ищет крова,
Смиряя свой осипший бас.
19
Да разве кто-то виноват,
Что Вам слегка великоват
Ваш серый ватник арестанта?
Распространяя дух спиртной,
Не по заказу шил портной,
Над ним зевая беспрестанно.
А то, что ватник Вам велик,
Так это Вам сам Бог велит
Хранить меж телом и одеждой
То, что опасней, чем грехи:
Тетрадки Ваши, где стихи
Еще безумней, чем надежды.
20
Осеннее скорбное чувство родства
С природой, теряющей плоть…
Слетает с деревьев слепая листва
И кружит, как маленький плот…
И голые черные прутья торчат
Оконной решеткой острожной,
И птицы кричат…
Ох, как птицы кричат –
И яростно,
и безнадежно…
21
Нет, этот мир сошел с ума!
Трава и листья так упруги,
Но рыщет камская зима
Седой волчицею в округе.
Ох, как скучали (говоря
Часами, долгими ночами,
Где потеплее лагеря,
Побеззаботнее начальство)
По дому, по его теплу,
По чаепитью средь домашних
За самоваром,
где не страшен
Мороз, похожий на пилу.
22
Беззлобно ударят под дых.
А ты и слезы не уронишь,
Воронежский мирный звереныш,
Средь камских просторов седых.
Средь камских просторов – средь хамских
Ухмылок твоих сторожей,
Тебя стерегущих не с ханской
Камчой, не с булатом ножей,
Но с тульскою – русской – винтовкой,
Которая – наизготовку –
По-хамски смеется в лицо.
А ты и слезы не уронишь,
Воронежский смирный звереныш,
И кутаешься в пальтецо.
23
Я мог во Францию, в Париж,
Наперекор всему бесстрашно.
Но как в Париже воспаришь?
Ох – только с Эйфелевой башни.
А мог – в провинции, в Твери,
В далекой деревушке ржавой
Молчать. Не думать. Не творить.
Чтоб и не вспомнила Держава.
И выбор был… Да вот беда,
Как жребий, выпал этот выбор:
Не из России навсегда,
А попросту – из жизни выбыл.
24
Достойные терна и лавра
Увенчаны лавром и терном.
Да будь эта слава неладна!
Ее, точно шапку, не сдернуть.
Мясистою зеленью лавра
Иль жгучей колючкой терновой
Тебя увенчали? – И ладно,
Поскольку и это не ново.
Поскольку ничто в мире этом
Не стоит слезы и улыбки,
Постольку и эти улики –
Свидетельства в пользу поэта.
25
Слишком весело пожили мы
В голубом и зеленом пространстве,
Чтобы в белые двери зимы
По-хозяйски войти и остаться.
Слишком пожили мы не всерьез
Среди лютиков, роз и ромашек,
Чтоб узнать, как лютует мороз,
Как удар его зол и размашист.
Но, из братьев моих и сестер,
Те, кто выживает,
те, воскресая,
Будут знать, как разводят костер,
Как огонь высекают кресалом.
26
На пиршестве своих отцов
Мы пьем расплавленное олово.
Не забывая кузнецов
И взмаха молота тяжелого.
На празднике своих детей
Мы пьем, с хвоинками смолистыми,
Напиток пряный их затей,
Прозрачный, пенистый, молитвенный.
Но средь ровесников своих,
В дотла сжигающем разгуле,
Мы в чашу горестей сухих
Сухие губы окунули.
27
С зеркала снимая покрывало,
Никому на свете не нужна,
Ничего уже не понимала,
Ничего не помнила жена.
Зеркало отсвечивало ржаво,
Таяло, дымилось… и текло,
Ничего уже не отражая,
Дряхлое старинное стекло.
Но эпоха хлынула потоком,
И напором яростным своим
Затопив непомнящих потомков,
Памятником высится над ним.
1983-1986